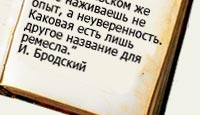Поэтика личного имени, глубоко разработанная Мариной Цветаевой, имеет ряд соответствий в символистской и акмеистической практике. Это обусловливает постановку задачи сравнительного анализа феномена личного имени в разных лирических системах Серебряного века. Однако цель данной статьи гораздо скромнее: показать некоторые специфические особенности ономастической поэтики Цветаевой на фоне аналогичных художественных поисков символистов и акмеистов.
Начну с общего тезиса: личное имя в поэтических контекстах Марины Цветаевой играет роль смыслового интегратора, своего рода,
фоно-семантической матрицы. Особенно это сказывается в стихотворениях построенных как бы в «звательном
падеже» — в посланиях и посвящениях
(см., например, «Стихи к Блоку», «Ахматовой», «Федра»,
«Овридика — Орфею»), предназначенных быть озвученными и услышанными (реально или условно). Но окликание по имени в них выполняет не столько коммуникативную, сколько эпистемологическую и магическую функцию
(т.е. функцию познания сущности адресата и его ритуального «заговаривания»).
Так, в «Стихах к Блоку» знаковое имя поэта (его имя и фамилия) задано
эксплицитно — вынесено в заглавие цикла. Однако в самих стихах оно упоминается лишь единожды («Святое сердце Александра Блока!»
1), ибо автор не задается целью завязать диалог с адресатом, втянуть его в свои рассуждения («И по имени
не окликну…», 1, 67).
В
1-м стихотворении Цветаева создает
ассоциативно-звуковой «ореол» вокруг имени адресата, что способствует его превращению в контекстуальный (едва ли не сакральный) символ, который является ключом к потаенному смыслу
1-го стихотворения и всего цикла. При этом само имя «Блок» не только не называется, но даже и не выражается в фонических
(аллитерационно-ассонансных структурах). Цветаева идет другим путем: она описывает субъективные ощущения, связанные со кинестетической сферой восприятия, которые становятся «планом выражения» гипостазированной сути имени адресата. В первой строфе кинестетические образы связаны с
осязательно-мускульными и вкусовыми ощущениями, а во
второй — со слуховыми.
При этом она прибегает к поэтике загадки, как бы заставляя читателя самого выстраивать тождества между именем и звуковой ассоциацией, которую она не имитирует в звуке, а дает ее косвенное описание как это принято при загадывании загадки:
Камень, кинутый в тихий пруд,
Всхлипнет так, как тебя зовут.
В легком щелканье ночных копыт
Громкое имя твое гремит.
И назовёт его нам в висок
Громко щелкающий курок.
(1, 65)
При этом само
неназывание имени (данного в
артикуляционно-осязательно-слуховой кодировке, через нанизывание образных энигм) обретает здесь магическую подоплеку (связанную с табуированием имени высшего существа), которая смыкается с
сакрально-христианскими запретами, в частности, с
3-й божьей заповедью: «Не поминай имени господа Бога своего всуе»
(ср. у Цветаевой: «Имя
твое — ах, нельзя!»). В таком контексте сакрального умалчивания имя «Блок» для Цветаевой отождествляется со словом «Бог».
Не случайно она далее прибегает к парафрастической конструкции: «И имя твое, звучащее словно: ангел» (поясняющая
звуко-семантическое тождество
Блок=Бог). В эту сакральную парадигму вписывается еще одно звуковое стяжение:
«ангел» — «Александр». Это сближение мотивируется автором, очевидно тем, что этимологически имя «Александр» имеет значение «защитник людей». Ведь ту же функцию выполняют и
ангелы-хранители. Из этого сопоставления сублимируется новый смысл: в цветаевской этимологии Александр
Блок — ангел-хранитель. Это потаенное тождество обусловливает и литургические жанровые мотивы, поддержанные цитатами
(ср.: «Свете тихий, святые
славы — / Вседержитель моей души», 1, 67), заимствованными из
церковно-ритуальных и текстов.
В итоге, имя «Александр Блок» в символической интерпретации Цветаевой становится неким ядром
авторского мифа о Блоке, включающего строй его души, поэзии, судьбы, ключевым моментом в котором является сакральная модальность, проступающая в цветаевском цикле.
По тому же принципу построено и
1-е стихотворение цикла «Ахматова», в котором «звуковой слепок» имени
адресата — Анна Ахматова — «разыгрывается» в ряде ассоциаций, которые выстраиваются в целостную смысловую парадигму, в котором из междометия «Ах!», приравненного к
горестно-удивленному вздоху, вырастает авторская мифологема Ахматовой, суть которой также сакральна:
бестелесный голос — Муза — Душа — Дух.
Та же семантическая многослойность имени сохраняются и в цветаевских
квази-посланиях, построенных на
мифолого-литературном материале
(см., например, цикл «Федра» или
«Эвридика — Орфею»). Но цель именования а, стало быть, и принципы работы с именем здесь меняются.
Так, в первом стихотворении цикла «Федра» многократно повторенное имя
Ипполит воспринимается как некий семантический зародыш, из которого, собственно, и вырос весь текст. В то же время имя выполняет функцию психологической характеристики лирической героини: многократное повторение ею имени Ипполита передает силу ее одержимости и страсти.
В то же время, входя в несколько контекстуальных упорядоченностей, имя
Ипполит одновременно образует несколько смысловых рядов. При этом оно обретает значения, не свойственные ему в реальной жизни, в бытовом
узусе. Ср.:
Ипполит! Ипполит! Болит!
Опаляет… В жару
ланиты…
Что за ужас жестокий скрыт
В этом имени Ипполита!
<…>
Ипполит! Ипполит! Спрячь!
В этом
пеплуме — как в склепе.
Есть
Элизиум — для — кляч:
Живодерня! — Палит слепень!
(1, 210)
В итоге, в «Жалобе» отчетливо выявляются фонетически родственные имени
Ипполит образы, образующие сквозной фонический ряд:
Ипполит — болит — опаляет — <в жару> ланиты // Пеплум — склеп — слепну — слепень ——— плен — лава взамен плит — лепим — плащ. В этом ряду имя
Ипполит, является звукосмысловой матрицей, инвариантом, задающим две семантические
парадигмы — пламени [страсти] (болит — опаляет — палит
слепень — плач —
лава — пылкий —
запаленный — утоли) и
склепа [гибели] (плен — склеп —
плащ — пеплум —
слепну — пепел —
пила — опилки). Причем вторая смысловая парадигма несет в себе семантические обертоны «закрытости» и
«пленности» — то есть попытки сдерживания запретного чувства.
Имя, обрастая
метафорически-ассоциативными значениями, оказывается внутренне расщепленным. и именно эта смысловая амбивалентность имени определяет внутренний сюжет
стихотворения — как роковой
нераздельности — неслиянности души и тела, страсти и долга, любви и смерти.
В «Послании» (втором стихотворении цикла) семантика имени (сохраняя память о контекстуальных смыслах, обретенных в первом стихотворении) несколько сдвигается: имя
Ипполит выступает как символ телесной и духовной жажды и недостижимости ее утоления («Ипполит, утоли…»)
Таким образом, имя в культурологических посланиях Цветаевой становится звуковой и семантической «точкой сборки» смысла стихотворения не как «готовой вещи», а как «становящегося целого».
В цветаевских поэмах имя собственное, сохраняя указанные функции, обретает новую роль, связанную с
жанрово-родовой спецификой произведения. Обратимся к поэме
«Молодец» (1922).
Имя Маруси, главной героини поэмы «Молодец» встречается в первой части поэмы 23 раза, а во
2-й — один раз, следовательно, можно утверждать, что повторы имени в
1-й части не случайны. Так, имя играет роль в образовании ритмического рисунка текста, является в ряде случаев рифмообразующим фактором
(ср.: «За той потянуся, / Что меж
русых — руса / Вкруг той
обовьюся, / Что меж
Люб — Маруся» (1, 347).
Но главная функция имени в том, что оно определяет основные семантические узлы поэмы и, по сути, структурирует семантический каркас «Молодца».
А.Ф.Лосев в «Философии имени» высказал мысль, что «имя сущности» порождает «лики», в которых является наименованная сущность»
2.
Напомним,
что М. Цветаева занималась собственными этимологическими построениями, сближая слова, не всегда являющиеся исторически и этимологически родственными, «знакомила» их, по определению Мандельштама. Ее авторская этимология нередко становилась основой авторского мифа.
Поэма «Молодец» изобилует такими
квази-этимологическими связями и построениями, возникшими на фонетических ассоциациях. И
фонетико-семантическим ядром служит имя героини
поэмы — Маруси. Например, Цветаева в поэме выстраивает следующую семантическую парадигму:
Маруся — Мария — морок — морская синь — руса — Русь.
Но на это «избирательное сродство», в свою очередь,
налагаются — по ассоциативно-фонетическому притяжению другие образные связи, образуя в итоге причудливую вязь семантических и этимологических цепочек.
Так,
Маруся — Мария — вызывает ассоциации с Богоматерью, Девой Марией.
Маруся — морок (мрак) — вследствие фонетической
близости — порождает ассоциации с
морухой (смертью),
маром (могильным холмом),
морокуном (колдуном),
мором (болезнью, эпидемией),
марью (болотом),
марой (призраком, наваждением, чарами).
Маруся — морская синь сублимирует имя Марина, причем
морская синь оказывается анаграмматическим и семантическим связующим звеном между именем главной героини и автора поэмы. Общеизвестно, что Цветаева широко использовала этимологическую связь своего имени с морской семантикой (поскольку
Марина в переводе с
итальянского — море), мыслимой ею как метафорическое воплощение женственной и стихийной природы ее души и ее поэзии. Подтверждением этому служат многочисленные поэтические контексты
(ср., например: «Но имя Бог мне иное
дал: / Морское оно, морское!
<…> / Но душу Бог мне иную
дал: / Морская она, морская!» (1,
41—42); «Мне
дело — измена, мне
имя — Марина, /
Я — бренная пена морская…»).
В статье «Искусство при свете совести» Цветаева пишет: «Все мои русские вещи стихийны, то есть грешны»
3. В Поэме «Молодец» имя героини семантически совмещает две стихии: поэзии, ассоциируемой с личностью и именем автора, и национальной стихии, ассоциируемой с национальной стихией древней языческой Руси, которая реализуется через цепочку:
Маруся — руса — Русь.
Таким образом, в семантическое поле имени Маруся включается семантика «русскости», Руси в ее
стихийно-языческой ипостаси (отсюда реанимирование древних преданий). Имя героини мотивирует ориентацию на русский фольклорный источник (сказку «Упырь», обработанную
А.Афанасьевым). Семантическая парадигма
Маруся-морок-Русь как бы становится мифологической сверткой древнерусского повествования о темных колдунах, которые наводят морок и приводят человека к смерти.
Ассоциативные смыслы, объединенные семантикой разрушения, возникают в пространстве поэмы не случайно. Цветаева записывает: «…
Мра, кстати, беру как женское имя, женское окончание,
звучание — смерти. Мор. Мра. Смерть могла бы называться, а может быть
где-нибудь, когда-нибудь и
называлась — Мра. Слово-творчество, как всякое, только хождение по следу слуха народного и природного»
4.
Мра и
Маруся близки по звучанию, а
следовательно — и по смыслу, при этом «мра» добавляет в семантическое поле имени
Маруся значение смерти, разрушения.
Амбивалентность имени определяет двойственную сущность образа Маруси и одновременно образа Руси
5. Эта двойственность и является источником дальнейшего конфликта и в то же время мотивирует окончательный выбор пути: Маруся с Молодцем уходят в
«огнь — синь». Образ — оксюморон объединяет и небесную синь Рая и огненную природу Ада.
Можно сделать вывод, что имя в поэме «Молодец» определяет ее
внутреннюю — мифопоэтическую — форму, которая, в свою очередь, обусловливает закономерности
мотивно-образного и
сюжетно-композиционного развертывания авторского мифа о
любви-страсти как роковой стихии, сближенной в авторской концепции со стихией национальной, с амбивалентной российской ментальностью.
Таким образом, Цветаева используя буквально все
фоно-семантические возможности имени в конечном итоге разворачивает имя в
миф — но не в классический миф (последний может служить материалом для ее
мифо-семантических построений), а в авторский миф. Но этот авторский миф создается по тем же законам, что и миф традиционный, более того. он в цветаевском творчестве выполняет креативные функции смыслопорождения, которые дают цепную реакцию новых образных ассоциаций.
***
Слово в концептуальных построениях как символистов, так и акмеистов напрямую связано с
религиозно-мифологической и онтологической основой мира. Показательна в связи с этим концепция слова как мифа, предложенная
Вяч. Ивановым, предвосхитившая философские идеи
А.Ф.Лосева. И символисты и акмеисты
религиозно-мифологические и философские истоки слова усматривали в прологе Евангелия от Иоанна («Слово было Богом»).
Из символистов весьма близко к цветаевскому методу работы с личными именами подошел
Вяч. Иванов (а, возможно, наоборот, Цветаева, была его восприемницей и ученицей). Так, в ивановском стихотворении «Есть мощный звук: немолчною волной…» звуковая россыпь склубляется постепенно в имя
Маргарита, которое подключается ко всему ряду слов, в составе которых наличествует
«м-р-г-р-т», что заставляет интерпретировать их как анаграмматических «родственников»
Маргариты. Имя
Маргарита противопоставляется, как отмечает
Е.Фарыно, «словам с затрудненной артикуляцией и тем самым вводит смысл гармонического космоса, возникающего из косноязычного хаоса» («из мутной мглы»)
6. Имя
Маргарита входит одновременно в несколько различных
лексико-семантических рядов, но в отличие от Цветаевской поэтики имени, эти перекрестные ряды воспринимаются не как наитие и откровение, а как плод искусственных (хотя чрезвычайно умных и тонких) построений. Так, Маргарита как
имя собственное входит в ряд
«Мара — Майя —
Жена — Имя —
Амфитрита — Сирена Маргарита» и является объединяющим звеном всех этих имен. В свою очередь, все эти
имена — мифологические, стало быть и имя
Маргарита обретает мифологические коннотации. Еще один семантический ряд, в который входит имя, связан с этимологическим его смыслом.
Е.Фарыно пишет:
«Маргарита-жемчужина читается еще раз, но уже в ряду слов „уст матерних — волн гортани — в раковине — день жемчужный — жемчужину“ — с явным углублением в порождающее мировое лоно»
7.
Личное имя у Блока претерпевает те же трансформации
нисхождения — восхождения, что и его основные символы, и прежде
всего — Прекрасная Дама. Так, в стихотворении «Над озером» образ прекрасной девушки мысленно нарекается автором высоким именем
Текла8, но когда происходит «падение» в его глазах, имя также «падает» и становится просторечным «Феклой»
9. Те же переверзии происходят с именем
Мария в лирической драме «Незнакомка», в которой этим именем нарекает себя воплотившаяся (нисходящая) сущность
инобытия — звезда. Когда же нисхождение инобытиственной сущности начинает ассоциироваться в буквальном смысле с падением, то Незнакомку окружающие называют уже не Марией, а
пошловато-жеманным именем
Мэри.
В понимании акмеистов вещи только в имени обретают свой бытийственный статус. Поэтому предметы как бы томятся без имен, стремятся воплотиться в слове (но не в любом, а в слове поэта,
отсюда — второе название
течения — адамизм, поскольку именно Адам впервые нарекал предметы имена).
Ср. у Мандельштама: «
Как женщины жаждут предметы / Как ласки заветных
имен. / Но тайные ловит
приметы / Поэт в темноту погружен»
10; «
В лазури мучилась заноза: — Не забывай меня, казни меня, / Но дай мне имя, дай мне имя!..»
11. Но после революции слово, имя, согласно концептуальным построениям акмеистов, оказывается еще и хранителем «памяти культуры». Наиболее ярко эта философская установка, теоретически обоснованная Мандельштамом в статьях
1921—1922 гг., в творческой практике проявилась
у Н.Гумилева. В художественном пространстве его последнего сборника «Огненный столп» (1921) стягиваются воедино культурные и исторические
пласты — с помощью парадигматической игры этимологически родственными именами.
Идея «памяти слова» у Гумилева реализуется в буквальном смысле, на корневом уровне: слово становится хранилищем исторических контекстов, при этом возникает своеобразный феномен
реинкарнации корня. Этот процесс «перевоплощения слова» с сохранением памяти о его прошлых значениях является
структурно-семантическим стержнем стихотворения «Ольга», в котором происходит собирание различных
культурно-исторических смыслов на уровне корней слов, восходящих к заглавию стихотворения (посвященном Ольге Арбениной). Автор выстраивает
культурно-ассоциативный ряд образов:
Эльга — Ольга — Олег —— Валгалла — Валькирии, фонетически и (как будет показано далее) семантически сближенных; причем некоторые из них, как например,
Олег, спрятаны в подтекст. Имя
Ольга становится историческим символом, отсылающим к знаковым ситуациям русской истории. Так, например, в тексте воспроизводится летописный эпизод мести княгини Ольги древлянам за смерть ее мужа, князя Игоря
(ср.: «Ольга, Ольга! — вопили древляне / С волосами желтыми, как
мед, / Выцарапывая в раскаленной
бане / Окровавленными ногтями ход»).
Этимологически имя Ольга восходит к именам Хельга или Эльга. «И то и другое
имя, — пишет П.Флоренский, — пришли к нам из Скандинавии, и оба глубоко принятые русским народом и сделавшиеся именами особливо русскими, будучи усвоенными русским языком претерпели здесь звуковую переогласовку»
12. Вот почему, стихотворение начинается именно с эмфатического клича: «
Эльга, Эльга! — звучало над полями», отсылающего к суровым реалиям военной жизни викингов, и только потом автор обращается к древнерусскому эпизоду мести княгини Ольги, как бы соотнося историческую хронологию с этимологической трансформацией имени.
Далее по
ассоциативно-фонетическому принципу в тексте возникает отсылка к деяниям князя Олега, родственника Рюрика, совершившего удачный поход на Византию: «
И за дальними морями чужими / Не уставала звенеть, / То же звонкое вызванивая имя, / Варяжская сталь в византийскую медь». Таким образом, именная парадигма
Эльга — Ольга — Олег оказывается связанной с ключевыми эпизодами скандинавской и древнерусской истории, что «объясняет»
семантико-этимологическую близость этих имен.
Подтверждением правильности нашего предположения может служить появление «однокоренного» имени Вольга в стихотворении «Змей».
Харизматически-волевое начало воплощено в образе былинного богатыря Вольги, который в авторском мифе Гумилева выведен змееборцем. Но в древних былинах традиционно змееборцем считался Добрыня Никитич. Гумилев же реконструирует миф, поскольку имя Вольга несет в себе историософский подтекст, связанный с семантикой именной парадигмы, в которую входит Ольга (скандинавский корень имени отсылает к варягам, создавшим в свое время российскую государственность) и Олег, совершивший поход на Царьград. Соответственно, в эту именную парадигму в большей мере «вписывается» былинный богатырь Вольга (а не Добрыня Никитич), именно
он — согласно этимологии имени должен охранять Святую Русь от хтонических разрушительных сил и в то же время иноверческих, «панмонголистских» набегов
(ср. геософскую семантику мусульманского центра Лагора, как обиталища Змея), персонифицированных в мифологическом образе Змея.
Но вернемся к стихотворению «Ольга». Именная ассоциация переносит лирического героя из реального исторического прошлого в вымышленное, мифологическое пространство, в котором, по наблюдению
Н.А.Оцупа, «Ольга, героиня русских летописей и легенд», сливается с героиней германского эпоса „Песнь о
Нибелунгах“ — Брюнгильдой. Ольга, как и Брюнгильда, жестоко мстит за смерть мужа»
13. Отсюда сравнение Ольги с Валькирией, воинственной девой, уносившей павших в битве героев в Вальгаллу (причем по фонетическому сближению все эти три имени также образуют
мифолого-ономастическую парадигму).
Ср.: «Сумасшедших сводов Валгаллы / Славных битв и пиров я жду. <…> И валькирией надо мною, / Ольга, Ольга, кружишь ты». Знаменательно,
что П.Флоренский, комментируя характерологическую семантику имени
Ольга, также усматривал в носительницах этого имени «душевное строение девы Валькирии»
14.
Стяжение разных
культурно-исторических пластов в «матричном» имени «Ольга» придает ему статус мифологической «свертки», хранящей события древнерусской истории в тесном взаимодействии со «скандинавскими влияниями», в итоге имя воистину становится «маленьким Акрополем», собирающим разные
национально-исторические и
культурно-мифологические векторы в единое целое русской истории и культуры. Таким образом, идея «памяти слова» у Гумилева реализуется в буквальном смысле, на корневом
уровне — слово становится резервуаром значений, накопленных историей и культурой за многие века.
Если сравнить ономастические поиски Цветаевой с аналогичными разработками поэтики личного имени у собратьев по перу, принадлежащих к разным течениям Серебряного века, то можно увидеть сходство и разницу в природе и приемах символической и мифопоэтической работы со словом, определяемой в конечном итоге фундаментальными
философско-эстетическими установками поэтических школ и течений.
Если у символистов мы наблюдаем как бы парадигматическое единство смысла в имени, то в акмеизме смысловое единство реализуется, скорее, на синтагматическом уровне. Акмеистское имя обретает способность хранить память о прошлом, причем смысловое наращивание происходит за счет
ассоциативно-фонетических связей, выстраиваемых в пространстве стихотворения или цикла. Уникальность же ономастических опытов Цветаевой заключается в том, что она в своем зрелом творчестве сумела в определенной мере объединить художественные установки обоих направлений.
____________________________________________
- Цветаева М. Соч.: В 2 т. Т.1. М., 1988. С.70. Ссылки на это издание далее приводятся в тексте статьи с указанием тома и страницы).
- Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М., 1990. С.94.
- Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 5/2. М. 1997. С.37.
- Там же. С.38.
- В предисловии к французскому переводу поэмы Цветаева сближает, обозначенную в стяжении имен Маруси-Руси, любовно-роковую линию личностного сюжета с трагической фабулой истории России: «Это история юной смертной, которая предпочла потерять близких, саму себя, но не любовь. <…> И, наконец, Россия, красная иной краснотой, чем ее нынешние знамена».
- Фарино Е. Введение в литературоведение. Ч.1. СПб., 2004. С.24.
- Там же. С.29.
- Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т.2. М.; Л., 1960. С.300.
- Там же. Т.2. С.301.
- Мандельштам О. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т.1. С.278.
- Там же. Т.1. С.152.
- Флоренский П. Имена. М., 2001. С.170.
- Цит. по: Гумилев Н.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т.4. М., 2001. С.317.
- Флоренский П. Указ. соч. С.177.